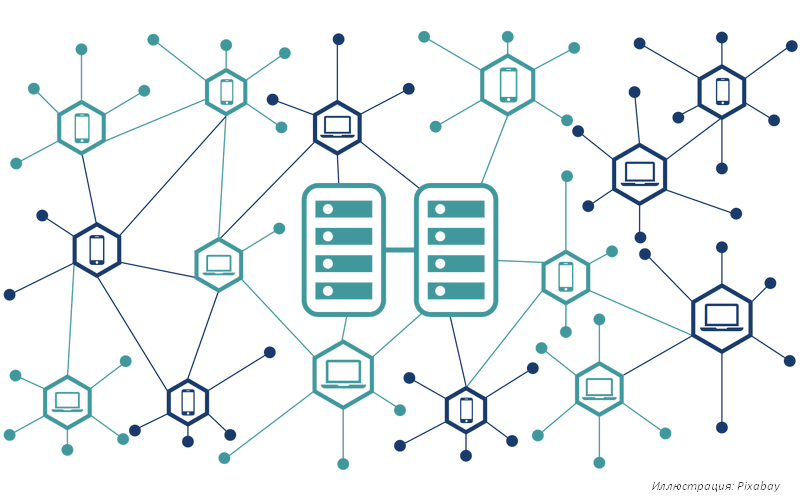Пресса об РФФИ
«Сейчас российской науке не хватает простых цифровых сервисов»
Интернет-издание «Индикатор» (г. Москва), 02.11.2019
Дата публикации: 23.01.2020
Об изучении российского научного сообщества, цифровизации руководства наукой и о том, способны ли различные цифровые механизмы, в том числе блокчейн, содействовать самоорганизации учёных, – в интервью Владимира Картавцева.Нужно ли внедрять в управление российской наукой новые цифровые механизмы – экспертные платформы, сервисы для публикаций, рецензирования, подачи грантовых заявок и документов на защиту диссертации? Если вы причисляете себя к российскому научному сообществу, у вас есть возможность поделиться мнением на этот счёт в опросе. Но авторы анкеты из команды исследовательского проекта по гранту Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) включили в неё вопросы и об общих принципах организации научной работы и её оценки. Почему разговор о цифровизации в науке невозможно вести вне широкого контекста, Indicator.Ru выяснил у руководителя этого проекта.
— В чем основная цель вашего проекта? Что будет его итогом?
— Тема проекта сформировалась на общем идеологическом фоне, который сложился вокруг цифровизации. Многим кажется, что мы находимся на пороге «четвертой промышленной революции» и нужно изучать, как цифровизация всего подряд может улучшить жизнь людей.
Мы с коллегами задумались вот над чем: способны ли различные цифровые механизмы, в том числе блокчейн, содействовать самоорганизации учёных. Понимаемой очень широко – и как университетское самоуправление, и как различные формы коллабораций, и даже как взаимопомощь. Стартовая гипотеза состояла в том, что учёным в России не хватает возможностей по самостоятельному принятию решений относительно развития науки: по каким метрикам оценивается качество научной работы, как устроено рецензирование научных публикаций, как распределяется финансирование и так далее. На сегодняшний день подобного рода решения относительно монопольно принимаются государством. Нам было интересно понять, какой сами российские учёные хотели бы видеть наукометрию, распределение нагрузки, какой формат представления научной работы им кажется оптимальным. И в новых цифровых механизмах для науки нас привлекали именно те, где используется коллективное принятие решений, например децентрализованные автономные организации (DAO) в блокчейн-среде.
Сложив два этих вектора (цифровизацию и самоуправление) воедино, мы получили тему проекта: «Цифровые механизмы управления и самоорганизации научного сообщества как необходимые условия научно-технологического прорыва».
Грант РФФИ №19-011-31522 «Цифровые механизмы управления и самоорганизации научного сообщества как необходимые условия научно-технологического прорыва». Ведущая организация – Государственный академический университет гуманитарных наук. Руководитель гранта – Владимир Картавцев. Соисполнители – Артём Космарский, Николай Подорванюк, Николай Гордийчук.
Но главное, что мы сделали, – обратились к самим учёным, чтобы понять, насколько валидны наши гипотезы. Может быть, учёным не нужна ни самоорганизация, ни цифровизация, ни демократизация. Может быть, большинство из них считают, что в управлении наукой со стороны государства все правильно, и вмешиваться не надо.
Кроме того, как всегда бывает в социальных исследованиях, наши стартовые гипотезы немного видоизменились, расширился исходный набор исследовательских тематик. Мы получили ряд побочных, но не менее любопытных и интересных сюжетов, о которых будем и дальше писать и рассказывать.
— Вы упомянули цифровые механизмы, которые уже используются в управлении наукой, какие это примеры?
— На самом деле это большое количество разных механизмов, которые могут быть связаны и с автоматизацией процессов прозрачного распределения финансирования, и с помощью в решении повседневных задач учёных.
Есть механизмы для публикации научных результатов в новых форматах – платформы открытого рецензирования, серверы препринтов, научные блоги, наконец. Есть механизмы, направленные на рационализацию и упрощение бюрократических процедур.
Есть инструменты для сбора так называемых «альтернативных метрик» эффективности деятельности учёных и институтов, при помощи которых оцениваются прямые и непрямые эффекты производства научного знания. Такие метрики – это не только упоминания в интернете и СМИ, но и воздействие того или иного исследования на экономику, культуру и общество – то, что называется импакт.
Изучив все эти возможности по существующим источникам, мы хотели в первую очередь оценить, сработают ли они в российском контексте.
Когда начинается разговор о цифровизации, часто забывается проблема контекстов: например, прямой перенос цифровых механизмов, которые успешно сработали в корпоративном секторе, в область госслужбы обычно наталкивается на целый ряд трудностей. И тут необходимо полноценное социальное/антропологическое погружение в оба этих контекста, чтобы «инсталляция» цифровых практик и подходов не провалилась.
— По каким из этих механизмов в мире накоплено больше всего опыта, какие наиболее распространены?
— Кроме публикационных платформ это различные механизмы, которые помогают учёным взаимодействовать друг с другом и сообща заниматься наукой. Например, это сайты, где происходит обмен публикациями, их обсуждение, ведётся коммуникация.
В России такой площадкой сейчас является в основном Facebook. Почему-то у нас распространён именно такой фрейм его использования. Но, естественно, учёные пользуются и специализированными сервисами: Academia, ResearchGate и тому подобными. Там тоже можно общаться, читать статьи, оценивать, насколько другой учёный адекватен, и так далее.
— Можно ли сказать, что такие площадки уже становятся для российских учёных прообразами тех механизмов самоорганизации, о которых говорит ваш проект?
— Безусловно, этими сервисами пользуются, причём Facebook востребован больше для неформального общения. Но это площадка, приспособленная для любой коммуникации, а специально предназначенных сервисов, чего-то вроде социальной сети учёных, мы пока не видим.
Однако это все известные и много раз проговорённые вещи. Интереснее здесь, на самом деле, даже не вопрос о конкретном интерфейсе, а то, есть ли у учёных в России вообще такая потребность – в коммуникации. Каковы рамки группы, мнение которой важно для конкретного учёного? Это его кафедра, коллеги и учителя? Или группа единомышленников из числа тех исследователей со всего мира, кто интересуется темой его работы? Или что-то иное?
— Мы часто, особенно не задумываясь, употребляем выражение «научное сообщество». Но считают ли учёные, что они принадлежат к какому-то единому научному сообществу? Или в России его не сложилось, а есть какие-то разрозненные маленькие сообщества в границах дисциплин? И разговаривать им друг с другом не о чем и, возможно, не хочется?
— В общем, уже сейчас можно сказать, что очертания границ научного сообщества в российском контексте далеко не очевидны, равно как и отношение учёных к этому сообществу.
Так что разговор о конкретных механизмах цифровой коммуникации породил ещё несколько сюжетных линий в нашем исследовании, одна из которых – научное сообщество в России: как оно выглядит, как оно сегментировано, как учёные различают «своих» и «чужих», каковы их критерии для того, чтобы отличать «хорошую» науку от «плохой», и так далее.
— Какие методы, кроме опроса, вы использовали, чтобы узнать взгляды и ценности российских учёных?
— Мы провели несколько фокус-групп, часть в Москве, часть за её пределами, причём старались выбирать максимально отличающиеся друг от друга организации и регионы. Условно, поговорили и с естественниками из академического института, и с гуманитариями, и с «технарями»; с теми, кто живёт и работает в Москве, и с теми, кто трудится в удалённых от столицы регионах. Нам нужно было посмотреть, есть ли какие-то значимые отличия в том, что люди говорят о российской науке, какие проблемы перед собой видят.
— А варианты ответов в анкете – это отражение позиций, которые вы увидели на фокус-группах?
— Безусловно. Социологическая часть проекта была реализована довольно традиционным способом. Вначале мы разработали пул гипотез, исходя из источников и литературы, затем спроектировали выборку для интервью с отдельными представителям научного сообщества (не только с учёными, кстати, но и с организаторами науки) и выборку для фокус-групп.
Заложили в этот дизайн наши гипотезы, а потом проанализировали собранные данные, чтобы спроектировать анкету. На выходе получился консолидирующий инструмент, который свёл основные находки воедино. Ко всему прочему, перед запуском анкеты вышел отчёт РАН об их опросе к годовщине академической реформы. Он проводился среди академиков, членов-корреспондентов и профессоров. Несколько вопросов из него мы взяли в нашу анкету, чтобы посмотреть, насколько будет отличаться распределение по ответам на другой выборке, – это такой эксперимент внутри эксперимента.
Сам опрос мы проводим в онлайне, потому что все другие способы сбора количественных данных кажутся в данном случае не слишком эффективными. Мы понимаем все ограничения и все возможности этого способа получения информации – когда подойдёт время публиковать результаты, мы планируем рассказать о методических особенностях исследования, построенного вокруг неслучайной потоковой выборки.
— А какую выборку вы рассчитываете собрать?
— На количество ответов мы никак, по большому счету, повлиять не можем, потому честный ответ – не знаем. Мы планируем распространить ссылку на опрос через сайт РИНЦ, обратимся к РФФИ с той же просьбой, в некоторые дружественные институции, к знакомым учёным. Опрос будет открыт около месяца, мы надеемся собрать за это время хотя бы несколько тысяч анкет. Во всяком случае, пока что динамика сбора данных позволяет на это надеяться.
— Какими будут следующие шаги в исследовании?
— Мы выявили, например, достаточно любопытный набор нарративов, с помощью которого учёными описывается российская наука как таковая. Эти самоописания заслуживают отдельного рассказа.
Кроме этого, мы столкнулись с тем, что с изучением российской науки есть одна существенная сложность: да, разработаны и внедрены количественные метрики, описывающие то, как она выглядит в общем виде – сколько защищено диссертаций, сколько опубликовано статей, на каких языках и т. д. Количественные данные есть, однако этого не достаточно – не хватает, как нам кажется, новых концептуализаций, верхнеуровневого описания сферы науки.
В последние годы стали заметными несколько статей с такими концептуализациями, прежде всего работа Михаила Соколова и Кирилла Титаева про туземную и провинциальную науку. Эту пару различений используют, она в ходу, и это говорит о её эвристике, но хотелось бы увидеть развитие этой мысли. У нас есть пара идей на этот счёт.
С другой стороны, какую-то часть материалов мы вообще не хотели бы публиковать в виде научных статей. Это интересные сюжеты, но на их основе лучше сделать публичные материалы, например в СМИ, просто рассказать об этом.
Например, как выглядят представления российских учёных о китайской науке. Оказалось, что чуть ли не в половине случаев, когда российских учёных спрашивают о российской науке, они начинают говорить почему-то о китайской. Суммируя и анализируя эти нарративы о китайской науке, можно прийти к описанию страхов и надежд российских учёных относительно развития науки в целом.
Вообще, мы могли бы сейчас написать отчётную статью для РФФИ и спокойно разойтись, но интуиция подсказывает, что и в научном сообществе, и за его пределами есть проблемы с чтением текстов научных статей. Об этом нам говорили и учёные в интервью и на фокус-группах, это одна из тех гипотез, которые мы тестируем. Поэтому нам кажется, что разные форматы публикации результатов – благо: и рекомендации, и публикации в СМИ. Надо рассказывать о своей работе в разных форматах, выходить за пределы только академического мира.
— Как вы считаете, возможен ли вариант, когда какая-то отдельная организация на основе ваших данных решит пойти дальше и внедрить у себя новые цифровые механизмы? Допустим, журнал увидит по результатам опроса, что многие учёные поддерживают открытое рецензирование, и перейдёт на такую платформу?
— Цифры по итогам опроса вполне могут выглядеть многообещающе, и, возможно, на основе этих данных будут приниматься какие-то решения, это не от нас зависит. Наша задача – продемонстрировать, что есть фактически, а дальше все желающие смогут воспользоваться нашими результатами, данные будут открыты.
Мы будем готовы проконсультировать тех, кто решит ими воспользоваться, по тонкостям и подводным камням. Что касается, скажем, открытого рецензирования, нам самим кажется, что это замечательная штука, нужная во многих областях. Например, многие учёные, с которыми мы общались, недовольны системой экспертизы заявок на гранты. Это закрытая процедура, в рамках которой у них нет возможности подать апелляцию. Никто не говорит, что надо одобрять все заявки, но хотелось бы видеть какую-то систему обратной связи.
В общем – данные будут, но надо помнить, что иногда опрос – это просто опрос.
— Насколько далеко может зайти цифровизация управления наукой, на ваш взгляд?
— Как и в других сферах, в науке цифровизация может дать свой эффект в первую очередь за счёт упрощения и очеловечивания бюрократических процедур, как это произошло, например, с госуслугами.
Раньше были нужны бесконечные неприятные телодвижения, чтобы заплатить штраф, получить справку, паспорт, а теперь все быстро делается через интернет.
Но дальше эта история обычно развивается в сторону усложнения предоставляемых сервисов, когда комплексные услуги со стороны государства (например, поступление в университет) также «оцифровываются».
Я думаю, что пространство российской науки ждёт оба этих шага: во-первых, замещение очных бюрократических процедур, которые совершаются в один такт. Спросите в любом российском университете, как его сотрудники относятся к подготовке РПД. Вас накроет волной ненависти. Вот это, на мой взгляд, звоночек о том, что пора либо от РПД отказываться вовсе, либо делать их подготовку более гуманной – при помощи тех же цифровых интерфейсов.
Во-вторых, мы можем предполагать, что логика развития суперсервисов коснётся и российской науки. Например, в плане защиты диссертаций. Это такая же комплексная процедура, как поступление в университет или оформление документов на новорождённого, и все её составляющие (ну, или большинство) можно «оцифровать», оставив очным только сам процесс защиты – встречу с ареопагом и содержательный разговор по теме защищаемого текста.
Но оба эти шага – только «первый этаж» цифровизации. Дальше можно переходить (или не переходить) к более сложным историям, связанным с процессами управления наукой. Одно дело – когда имеющиеся бюрократические процедуры переводятся в цифру, другое – когда вы создаёте новые процессы на цифровой основе.
— Это могут быть новые метрики эффективности деятельности учёных, новые среды коммуникации и самоорганизации.
— Думаю, этот «второй этаж» – дело более отдалённого будущего. Сейчас российской науке не хватает простых прикладных сервисов по образцу госуслуг. Когда они родятся, можно будет говорить и о более серьёзных шагах в сфере переработки систем метрик эффективности или о самоорганизации.
И большой содержательный вопрос в переходе к этому этапу – а хотят ли учёные автономии и возможности управлять своей наукой? Есть ведь и те, кто хочет заниматься собственно наукой, а не её администрированием. В своих публикациях мы опишем эту ситуацию, и не факт, что ответы будут совпадать с логикой цифровизации и демократизации на основе цифровых интерфейсов. Мы не ставим перед собой задачу оправдать необходимость цифровизации, нам важно узнать, нужна ли она (и если да, то где именно) на самом деле.
Екатерина Ерохина
Источник: Индикатор
Иллюстрация: VIN JD / Pixabay